Элигий Ставский - Домой ▪ Все только начинается ▪ Дорога вся белая
Из окна была видна жизнь, просторная и залитая солнцем. Слева — часть перрона, прямо — что-то вроде рынка, небольшой навес и под ним женщины с кульками и бутылками молока, справа — бегущее по насыпи железнодорожное полотно и край дубового леса. И все это под голубым бескрайним небом, все это с ветром, с голосами, тропинками, по которым можно было уйти далеко, как хотелось, идти очень долго, потом остановиться, полежать на траве, запрокинув голову, вдохнуть запах земли и снова идти куда хочешь.
Вилька просунул сквозь решетку руку. В пальцах краснела тридцатка. Он помахал ею.
За этот час от товарного мало что осталось. Его растащили. Только четыре вагона еще прижимались к паровозу, теперь безмолвному, как будто неживому, пустому и точно брошенному.
— Вудки, пан? — подойдя к окну, улыбаясь только губами, но виновато, робко и стараясь не смотреть внутрь камеры, спросила молоденькая полька. Я подумал, что она похожа на Вилькину мать. Такая же тихая, усталая.
Вилька пожал плечами и тоже улыбнулся, но так криво, что полька опустила глаза.
— Ну и водки, — мрачно сказал Вилька. — Все равно: пусть водки, — и отдал еще одну тридцатку, щедро, как пустую бумажку, никому не нужную.
Полька ушла, и, может быть, навсегда. Вилька сел прямо на пол, прислонился к стене и синими круглыми глазами уставился в потолок.
Наверное, только из-за решетки видно, что люди совсем не умеют жить, не умеют говорить, не знают, как ходить. Странная какая-то лень растеклась по земле. Тот человек, который все время бродил по перрону, надвигая все ниже на лоб старую соломенную шляпу, не знал, куда себя деть. Он просто мучился оттого, что у него были ноги, было время, был он сам. Но ведь он мог спрыгнуть вниз, подойти к той платформе, с которой снимали ящики, и помочь грузчикам, поговорить с ними, посмеяться с ними, потом сесть рядом с ними где-нибудь в тени и выпить молока, прислонясь к стволу дуба. А он все ходил туда-сюда, туда-сюда... На скамейке, возле груды своих кошелок, болтая головой, чтобы видеть одновременно полотно и свои кошелки, которые кто-то мог украсть, хотя никого вокруг не было, сидела и зевала толстая коротконогая женщина, разморенная, расползающаяся на солнце. Она везла во Львов яблоки, чтобы продать их подороже. И только ради этого она сидела тут, изнывала и покрывалась потом. А зачем? Вот она открыла бы корзины и раздала людям яблоки, прямо здесь, на перроне. И ей было бы хорошо, и все бы смеялись, стоя возле нее и похрустывая яблоками. Подошел бы вон тот солдат с вещевым мешком, вон тот, в гимнастерке, облитой водой, и тот старик, у которого был дырявый зонтик. И вышел бы Маковка и тоже съел яблоко.
Вилька сидел неподвижно и, наверное, так же, как я, думал о том, что можно сделать за семь лет.
Подполз, подкравшись тихо и осторожно, пассажирский. И укатил, скрылся за лесом, увез счастье и женщину с кошелками. Выше и выше поднималось солнце, и как-то все тревожнее становилось оттого, что синева неба постепенно растворялась и белела. Те яблоки в кошелках теперь стояли, должно быть, на третьей полке, и тряслись, и качались, и все ближе придвигались к краю.
Пришла наконец полька. Она все же пришла. Посмотрела по сторонам, потом шагнула к окну. Принесла кулек вареных бобов, кружку холодной воды и большую бутылку сухого вина. «Вудки нема». Поулыбалась также виновато и протянула сквозь решетку свою маленькую руку, высыпав на подоконник горстку серебра и несколько скомканных пятерок.
Вилька расстелил на полу газеты. Я отсыпал из кулька чуть-чуть бобов, остальные протянул Вильке. И когда отсыпал, придерживая кулек правой рукой, а левую приставил к газете, чтобы бобы не укатились, и когда заворачивал низ кулька, потому что он отсырел и уже расползался, и когда протягивал кулек Вильке, то все время ощущал на себе его взгляд, пристальный и холодный.
Я держал кулек в руке, а не просто положил его на газету, потому что чувствовал себя виноватым. Я понимал, что означает Вилькин взгляд, и знал, что мне нужно молчать, что бы сейчас ни произошло. И снова, но теперь уже как-то безразлично, думал о том, что те яблоки едут и трясутся, и не мог отогнать от себя эту мысль, какую-то спасительную, отвлекающую. А потом вдруг, сам не ожидая, сказал:
— Наверное, и нас отвезут во Львов. Здесь-то тюрьмы нет.
У Вильки глаза были как острые, обломанные стекла.
— А почему ты взял столько?
Я знал, о чем он говорит, но молчал.
— Почему не больше? — снова спросил он. — А?
— Хватит и этих. Я потом возьму еще.
Он откинул голову назад, скользнул взглядом по моему лицу и, убедившись, видимо, что я есть я и я неисправим, отвернулся. Наверное, проклинал самого себя за то, что связался со мной. Я сжался, но все же верил, что гадости не будет в его словах, в тех словах, которые сейчас обрушатся на меня, точно камни. Этой верой я только и держался. Опустил руку — она затекла — и положил кулек возле Вильки, осторожно, тихо.
— Слушай, — начал он негромко. — Слушай, а почему ты так живешь? Ты можешь сказать — почему? Давай мы поговорим последний раз. Почему я должен тащить тебя домой, а ты всегда обиженный. Из Киева тащить, из Винницы тащить...
У меня голова была набита звуками, которые доносились из окна: стук ящиков, детский плач, шипение маневрового паровоза. И снова мысль про яблоки на третьей полке. Мысль однообразная, без зацепинки, как эти белые, чуть шершавые стены.
— Почему? — Вилька не мог остановиться, наверное, слишком долго он молчал, — Ну почему ты берешь вот столько бобов, хлеба всегда хочешь взять крошку, супа полтарелки? Вечно хочешь взять поменьше, как будто это милостыня. А почему ты не хочешь жить на равной? Для чего тебе это нужно: вечно быть особенным и унижать других. Ставить других в какое-то дурацкое положение. Неужели ты не можешь научиться уважать людей? Или у тебя это уже в крови? И где ты этого набрался? Или ты какой-то искалеченный? Нет, правда, может, ты искалеченный, и у тебя это не пройдет никогда? Почему ты так живешь?
Вилькин голос был далеко. Я жевал бобы и представлял себе, как нас посадят в особый вагон и поезд покатится тихо-тихо. И можно будет спать много суток, вытянувшись на полке, положив под голову ладонь, вслушиваясь в спокойный, мягкий стук колес, бегущих неизвестно куда. Куда-то далеко. Куда-то в тишину. Лежать и плакать. Мешал только Вилькин голос.
— Ведь ты сидишь, — продолжал Вилька, — и тебе так и не терпится сказать, что это ты во всем виноват. Тебе так и хочется быть мучеником и даже сидеть в тюрьме. А ведь это я придумал этот дурацкий Перемышль. И я потянул тебя в этот буфет. И мне противно было слушать, как ты стоял перед этим капитаном, и бил себя в грудь, и еще клялся портсигаром. Ты можешь стать нормальным человеком? Человеком можешь стать? А понять, что мы виноваты наравне, ты можешь, и что мы должны поровну сожрать эти бобы, выпить это вино, истратить наши деньги? Мне надоели твои привычки и надоело, что ты не спишь по ночам, а только все вертишься, и у тебя в башке что-то копошится и копошится. На вот, бери эту кружку и пей. Только всю. Понимаешь, ты — кружку и я — кружку. А если ты искалеченный, тебе надо лечиться или жить где-нибудь среди медведей... Почему ты искалеченный?
Мы выпили на равной это тяжелое, как ртуть, вино. Разливаясь по телу, оно не опьяняло, а как-то оглушало и одуряло, сужая и опуская мир к самым ногам, так, что можно было, не вставая, заглядывать в улицы далеких городов, можно было переставлять с места на место дома в этих городах, вот так же как грузчики переставляют ящики, можно было сажать деревья в этих городах, работать на больших заводах, учиться - и смеяться, смеяться, смеяться, стоя в очереди за мороженым и стараясь держать голову так, чтобы она не опускалась. Стало жарко, душно.
- Обиделся? — спросил Вилька и прислонился к стене. — Ничего, потерпишь. Ешь еще.
По-прежнему лицо у него было серое, глаза как при горячке, а губы двигались, будто сведенные судорогой. Очень ему было плохо. И не от вина, я это знал. А после того, что он наговорил мне, наверное, еще хуже. Но я и сам знал про себя все, что он сказал. Только не знал, что мне с собой делать.
День начал двигаться скачками и то темнел, то был пронизан ярким, слепящим солнцем. И теперь все, что происходило на земле, было связано только с грузчиками, с теми большими продолговатыми ящиками, на которых стояли черные цифры. Казалось невозможным, что платформа с ящиками опустеет. Тогда произойдет что-то непоправимое. Тогда эта платформа будет похожа на брошенный дом. Тогда наступит страшная тишина, потому что на перроне уже никого нет, и нет никого под тем рыночным навесом, и перестал плакать ребенок, и куда-то пропал маневровый паровоз. Можно было подсчитать примерно, что на платформе сто двадцать ящиков. И если грузчиков трое, то на каждого - по сорок. И чтобы снять ящик с платформы, потом перенести его через рельсы и дошагать с ним, держа его перед собой или на спине, до того сарая, откуда иногда доносился голос женщины, нужно минут семь. Минуты на три грузчик исчезал в сарае. Значит, получалось десять минут. Но были еще перекуры, и был обед... Только позднее я понял, что ящики в действительности для меня ничего не значили. Просто было невозможно увидеть перед окном пустыню без единого человека, а заодно я считал время. Часы у Вильки остановились и стояли, как он ни колотил по ним.

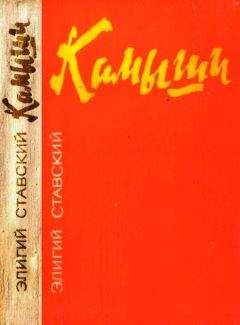

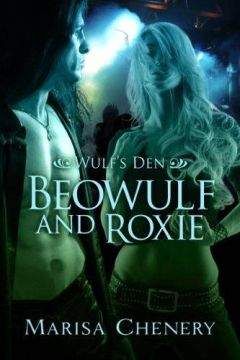
![Светлана Чистякова - Наследники Падших Книга вторая Трудно признать [CИ]](/uploads/posts/books/3156/3156.jpg)